Ex machina: картотечная машинерия в игре идей. Ч. 2
Картотека как пространство беседы и странных сближений. Часть вторая.
Вторая часть интернет-версии статьи о феномене картотеки. В отличие от бумажного варианта, она оснащена иллюстрациями и гиперссылками.
Начало ☞ здесь
Первая часть статьи закончилась на утверждении, что Никласу Луману удалось осмыслить феномен картотеки концептуально.
Картотека как диалог
Необходимо было выявить преимущества подобного типа писательских практик. Ведь примеры из жизни Лейбница, Гегеля и других, могли оказаться коллекцией курьезов, «ошибкой выжившего».
Ясно, что философское мышление может состояться и без картотеки. В конце концов, у нас есть пример Сократа, который предпочел папирусу память своих учеников.
Вероятно, вопросы следует ставить иначе. Органична ли картотека философскому мышлению? Какие аспекты этого мышления могут быть усилены с помощью картотечного инструментария?
Одним из способов ответа на эти вопросы может послужить концепция диалога, возникшая под влиянием работ Мартина Бубера в философии и Михаила Бахтина в литературоведении1.
Если основная цель преодоление фрагментарности знаний, то диалог как метод напрашивается само собой. Он может быть как устным, так и письменным, как межличностным, так и внутренним.
Очевидно, картотеку можно рассматривать как форму письменной автокоммуникации.
Луман отмечал: «…если вам все равно придется писать, целесообразно одновременно использовать эту деятельность для того, чтобы создать компетентного партнера по коммуникации в системе заметок»2.
Он неоднократно отзывался о своем zettelkasten, как о существе, наделенном сознанием. Складывается ощущение, что для него это было не просто метафорой, но неким странным опытом3.
Как, однако, коллекция коробок с бумажными карточками может участвовать в коммуникации? Ведь это не какая-то из модных ныне языковых моделей искусственного интеллекта. Карточки не выскакивают сами собой из ящиков в ответ на запрос. Картотека не проявляет инициативы, не предлагает темы, она не наделена сознанием и волей.
Рождение из хаоса
В чем же тогда заключался диалог Лумана и его системы заметок? Он утверждал, что «Для коммуникации одним из базовых условий является способность партнеров удивлять друг друга»4.
Разумеется, удивление возможно и просто, когда архив превышает пределы памяти исследователя. Чем забывчивее автор, тем больше неожиданных находок его ждет. Луман, тем не менее, говорит об обнаружении чего-то принципиально нового. Добавочный смысл появляется в картотеке благодаря ранее не существовавшим комбинациям, случайным связям между идеями.
Для достижения этого эффекта Луман решил отказаться от линейной организации текста. Однако он пошел дальше и отказался также от тематической организации, известной по библиотечным каталогам, и от попыток выстроить систему на основе некоей иерархии. Оставалась свободно ветвящаяся структура, объединенная перекрестными ссылками. Этот тип тестов лучше всего описывается постмодернистским понятием «ризома»5.
Жиль Делез и Феликс Гватари отмечали, что «…в отличие от деревьев и их корней, ризома соединяет какую-либо одну точку с любой другой точкой, и каждая из ее черт не отсылает с необходимостью к чертам той же природы, она вводит в игру крайне разные режимы знаков и даже состояния не-знаков <…> В противоположность центрированным (даже полицентрированным) системам с иерархической коммуникацией и предустановленными связями, ризома является а-центрированной, неиерархической и неозначающей системой — без Генерала, без организаторской памяти или центрального автомата, уникально определяемых лишь циркуляцией состояний»6.
Подобная системой сложнее управлять из-за высокой степени хаотичности. Однако хаос в данном случае не является аномалией, напротив, он обеспечивает картотеку своеобразной свободой и непредсказуемостью.
Большинство людей, стремясь обрести контроль над информацией, повышают структурную жесткость, разрабатывают изощренную классификацию. На поверку это ведет как раз к большей фрагментации знания.
Убежденность Лумана, что для картотеки необходимо сочетание порядка и беспорядка, очевидно, проистекала из его познаний в области кибернетики7. Самоорганизация и саморазвитие систем были очень популярными темами во второй половине ХХ века.
Пригожин И. Р., повлиявший своими работами и на гуманитаристику, писал: «Вырисовываются контуры новой рациональности, к которой ведет идея нестабильности. Эта идея кладет конец претензиям на абсолютный контроль над какой-либо сферой реальности…»8.
Zettelkasten Лумана
Техническое воплощение картотеки у Лумана было довольно простым. Деревянные ящички с карточками из обычной бумаги, заполненными от руки. Записи помечались сиглами. Например, ветка размышлений об идеологии в первой картотеке Лумана начиналась с цифры 17. Развивая изначальные идеи, Луман «приращивал» нумерацию, чередуя буквы и цифры. Если текст не влезал на одну карточку, Луман продолжал его на следующей, помечая это в сигле — 17,1; 17,1a; 17,1b и т. д.
Эта техника также позволяла Луману с легкостью присоединять дополнительные карточки в нужном месте — 17,1b1; 17,1b4h и т. п. Именно эта возможность бесконечного ветвления, нелинейного письма привлекла Лумана в картотечной машинерии. Большинство карточек снабжались также перекрестными ссылками, включались в тематические индексы.
Внешне простая система позволяла, тем не менее, развивать комплексные идеи, создавать пространство для серендипности, того самого «удивления».
Как утверждал Луман, «В результате длительной работы с этой техникой возникает своего рода вторая память, альтер эго, с которым можно постоянно общаться. Как и собственная память, она не имеет тщательно выстроенного общего порядка, иерархии, и уж тем более линейной структуры, как книга. Именно поэтому она обретает собственную, независящую от ее автора жизнь. Совокупность заметок можно охарактеризовать только как беспорядок, но, по крайней мере, это беспорядок с непроизвольной внутренней структурой»9.
Эффект гомункула
Здесь на ум непроизвольно приходит популярный в немецкой литературной традиции образ гомункула, искусственно выращенного сознания.
«Эффект гомункула» может иметь психологическую подоплеку. Ясно, что это не свойство картотеки самой по себе, а свойство человеческого сознания. Можно назвать это проекцией или даже антропоморфизмом. Отчасти такое отношение можно объяснить эмоциональной связью, значимостью предмета. Рыцари в Средние века нарекали свои мечи, самураи верили, что у их катана есть душа и т. п.
В работе Николаса Эпли «Mindwise» есть целый раздел посвященный иллюзии «разумности» предметов. Как показывают исследования, люди склонны наделять механизмы разумом, когда те ведут себя странно, совершают неожиданные сбои в работе. Эпли отмечает, что это больше, чем просто способ образного мышления. На уровне нейронной активности метафора воспринимается как явь. «Чем менее предсказуем объект, тем более осознанным он кажется»10.
Разумеется, техника Лумана, включавшая в себя элемент хаоса, создавала все предпосылки, чтобы увидеть в картотеке независимое мышление. Однако, феномен диалога с картотекой не исчерпывается подобным объяснением.
Поиск старых заметок и регистрация новых, сопоставление записей и поддержание ссылочного аппарата — это сложные навыки. Подобное взаимодействие с картотекой порождает то, что А. А. Ухтомский называл «функциональным органом». В данном случае этот орган служит экстериоризации внутреннего диалога.
Измерения диалога
Практики, связанные с картотекой, позволяют преодолеть ограничения и предрассудки линейного письма. Автор, противоречащий сам себе, утверждающий и тут же оспаривающий нечто, выглядит странно. От текстов принято ожидать некоторой последовательности и ассоциировать с ней культуру мышления. В картотеке, однако, возможно и даже желательно создание полемического пространства. Парадоксы создают здесь творческое напряжение.
Смоделировать полифонию разных точек зрения без картотеки было бы нелегко. Картотека позволяет проступать на поверхность неожиданным идеям, так как рационально-критическому началу сложнее контролировать ее запутанную сетевую структуру.
Через картотеку проговаривают себя и культура, и бессознательное. Создатель заметок лишь присоединяется к дискуссии, которая началась задолго до его появления на свет.
Картотечная машинерия также позволяет озвучить позиции множества субличностей. Это не просто коммуникативный партнер, а, скорее, целый коллектив, готовый обсуждать тему с разных сторон. Автор беседует с иными версиями самого себя, разнесенными во времени, помещенными в другие контексты и т. п.
В этом смысле, подлинно философское предназначение картотеки заключается не только в раскрытии и развертывании идей, но и в самопознании. Увидеть свое мышление со стороны — такова одна из задач, решаемая картотечной машинерией. Медиа картотеки позволяет создавать бесконечное как фрактал мышление о мышлении.
Успешный диалог с картотекой, однако, требует особого подхода. Необходим навык постановки вопросов, интердискурсивного взгляда на проблемы. Как отмечал Луман, «…если стремиться к коммуникации с картотекой, то необходимо искать внутренние возможности соединений, которые дают неожиданный результат… Обычно более продуктивно доискиваться до постановки проблем, которые роднят разнородное друг с другом. Во всяком случае коммуникация становится более плодотворной, когда удается активировать внутреннюю сеть ссылок по поводу записей или запросов»11.
Диалог в данном случае означает, что исследователь формулирует вопросы, на которые картотечная машинерия дает порой самые неожиданные, но эвристически ценные ответы. В ходе подобного взаимодействия разрозненные фрагменты знаний начинают сближаться, вплетаются в новую целостность. Таким образом, картотека отвечает неизбывному философскому стремлению, понять, «…как вещи в самом широком смысле слова связаны друг с другом в самом широком смысле слова».
Заключение
«Истинное есть целое» — пишет Гегель в «Феноменологии духа»12. Философия, по крайней мере в ее классическом изводе, всегда была попыткой обретения холистического взгляда на мир. Интеллектуальные практики, выработанные в рамках этой традиции, могут быть ответом на современную проблему дробности и разобщенности знания.
Как было показано выше, картотечная машинерия изоморфна философскому, синтезирующему способу мышления. В картотеке в силу самого устройства отражается дискретный характер знания, но тут же он и снимается благодаря развитию сети ссылок, созданию гипертекста.
Картотека оказывается идеальным медиумом для нелинейного чтения и письма. Она позволяет выстраивать различные маршруты через «литературные леса», обнаруживать все новые и новые смыслы.
В наши дни картотечная машинерия получила неожиданную популярность среди представителей креативных индустрий. Появились десятки компьютерных приложений, обучающие курсы, родилась новая дисциплина — Personal knowledge management.
Очевидно, что научный и педагогический потенциал картотечного метода нуждается в дальнейшем и более детальном изучении со стороны когнитивистики. Особую значимость это имеет для культурологии и других междисциплинарных областей знания.
Нужно отметить, что идеи диалогизма активно развивались в отечественной гуманитаристике Библером В. С., Лотманом Ю. М., Баткиным О. М., Каганом М. С., Померанцем Г. С. и т. д.
Luhmann N. Kommunikation mit Zettelkästen. Ein Erfahrungsbericht // Öffentliche Meinung und sozialer Wandel. Für Elisabeth Noelle-Neumann. — Opladen : Westdeutscher Verlag, 1981. — S. 222
Перевод этой статьи доступен ☞ здесь.
Ханс Блюменберг тоже рассматривал свою картотеку в качестве собеседника. Примечательно, что романе «Блюменберг» Сибиллы Левичарофф исследователю по ночам является таинственный лев. Он становится безмолвным собеседником учёного.
Luhmann N. Kommunikation mit Zettelkästen. Ein Erfahrungsbericht. — S. 222
Делез Ж., Гватари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. — Екатеринбург : У-Фактория; М. : Астрель, 2010. — C. 37-38
Несложно заметить, что основные идеи системной теории Лумана (аутопойесис, редукция комплексности, самореференция и т. п.) легко проецируются на его представления о сути картотеки.
Пригожин И. Р. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991, № 6, —С. 51
Luhmann N. Kommunikation mit Zettelkästen. Ein Erfahrungsbericht. — S. 225.
Epley N. Mindwise: Why We Misunderstand What Others Think, Believe, Feel, and Want. — New York: Vintage Books, 2015. — P. 73
Luhmann N. Kommunikation mit Zettelkästen. Ein Erfahrungsbericht. — S. 226
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. — М. : Наука, 2000. — C. 16



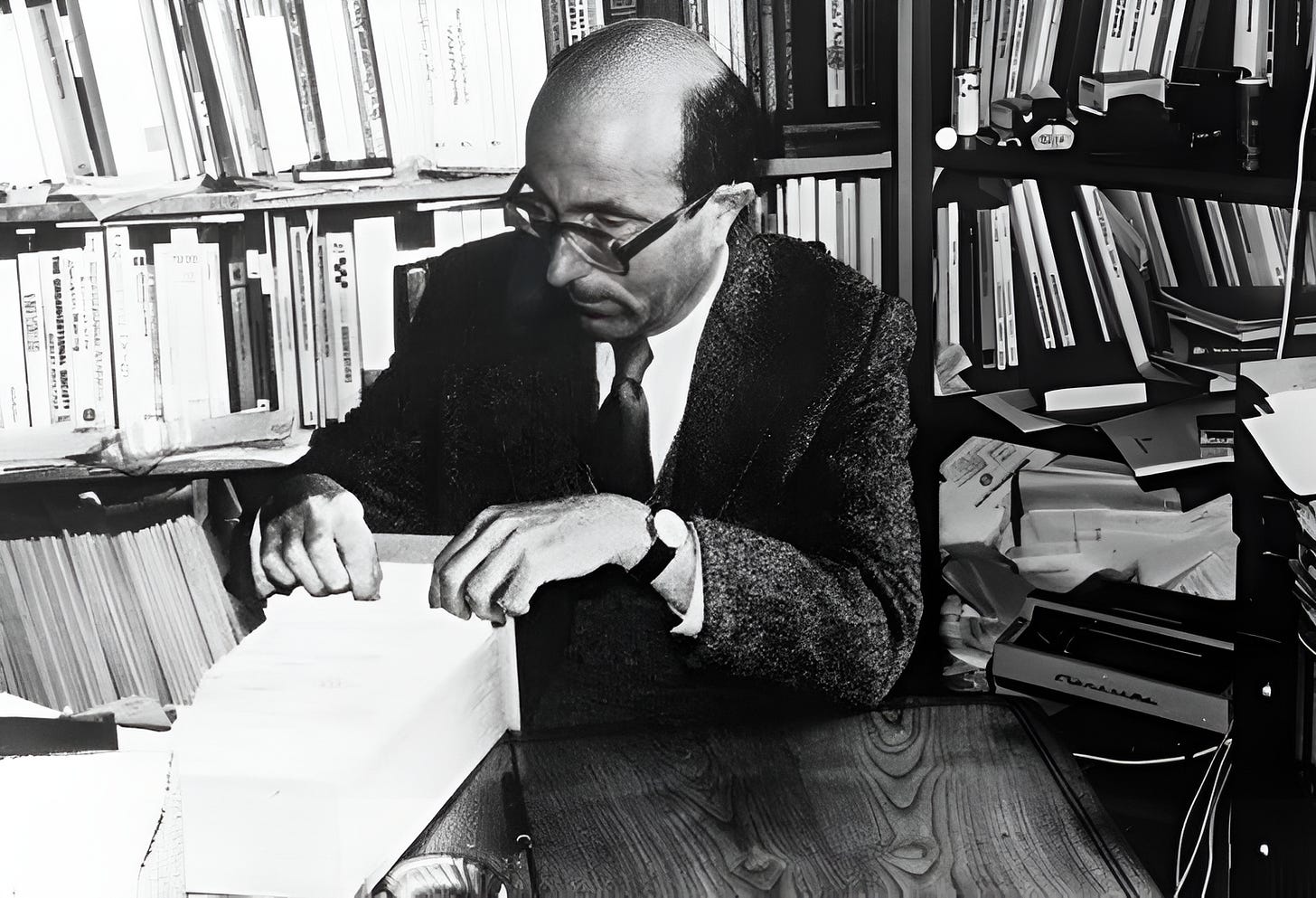
Прочитал 1 и 2 часть.
Спасибо огромное!
Людям (и мне, наверное, но стараюсь) все сложнее читать сложные тексты.
Мне до сих пор непонятен диалог.
Что делать с электронными записями?
Диалог возвожен только с карточками, если их брать случайно, как карты Таро, выкладывать и искать связи?
В моем случае уже записанное служит основой для дальнейших идей, линейно. Записал - идешь дальше.
Иногда вспоминаешь запись из другого раздела, связываешь по ассоциации.
И все. Нет Пригожинского развития "от простого к сложному". Просто набор фактов и идей, который не самосовершенствовуется.
Вот если б придумать алгоритм записей и их обработки для порождения нового знания!
Да написать плагин к редактору CudaText!
Было бы очень духоподьемно и полезно!
Как бы использовать Lisp-машины для организации PKM?